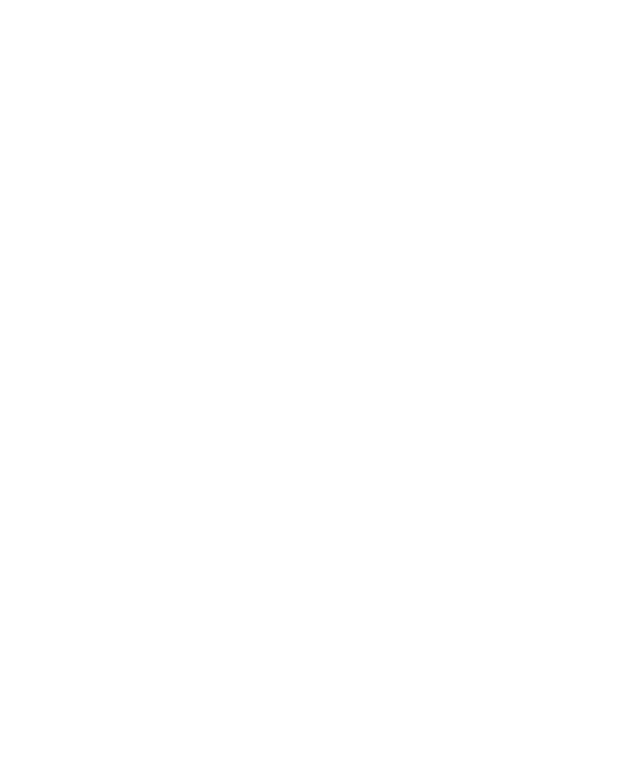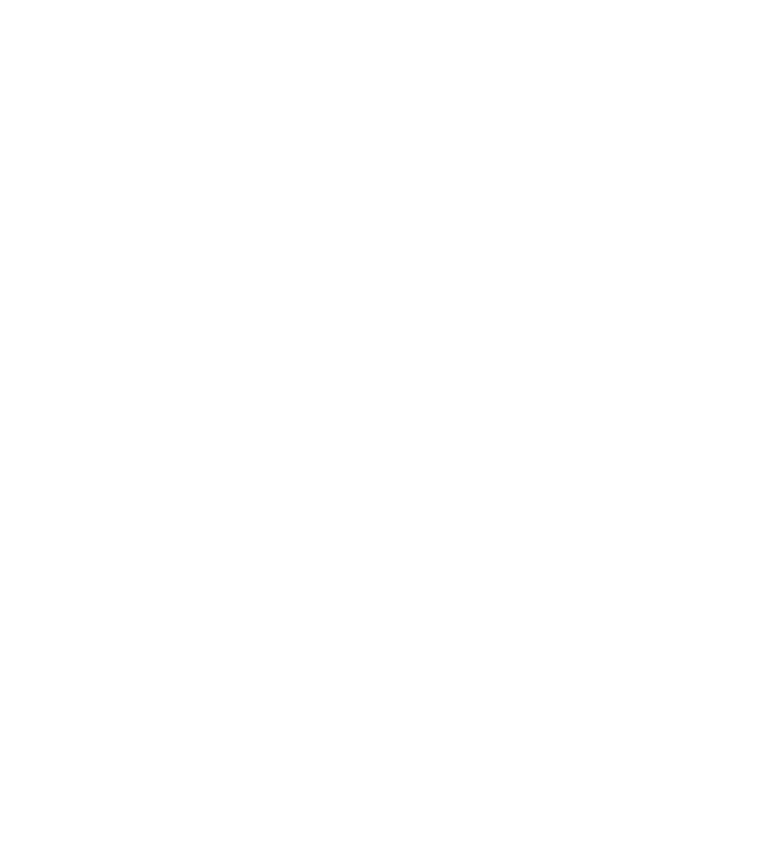БОРИС ПАСТЕРНАК
Где человек, до конца понявший Пастернака? Пастернак - это «тайнопись», «иносказание», «шифр».
М.Цветаева
Побойко Александра,
рук. И.В. Яннаева, рук. Е.В. Кильганова
(МБОУ г. Иркутска СОШ № 12)
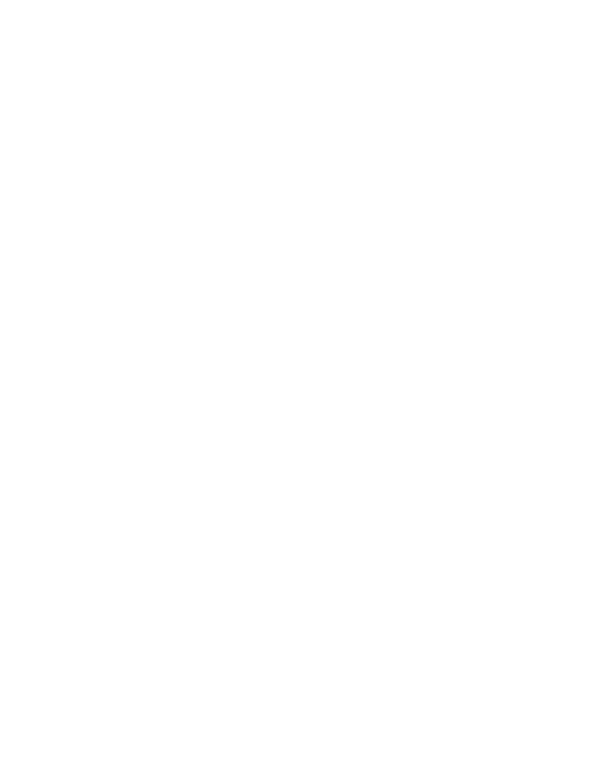
Больше всего на свете я любил музыку…
Пастернак
Коль музыке поэзия близка
И как с сестрою с ней соединима,
Любовь меж ними будет велика…
Шекспир
СТИХОТВОРЕНИЕ БОРИСА ПАСТЕРНАКА «МУЗЫКА»
Лингвистический анализ
художественного текста
Когда-то Марина Цветаева в полемическом пылу воскликнула: «Где человек, до конца понявший Пастернака?» И сама же ответила: «Пастернак - это «тайнопись», «иносказание», «шифр». «Пастернака долго читать невыносимо от напряжения (мозгового и глазного), как когда смотришь в чрезмерно острые стекла, не по глазу (кому он по глазу?)».
Разве это не предупредительный сигнал для тех, кто отправляется странствовать по морю, название которого поэтический мир Пастернака?
Давайте прислушаемся к пастернаковской музыке, погрузимся в мир его поэзии.
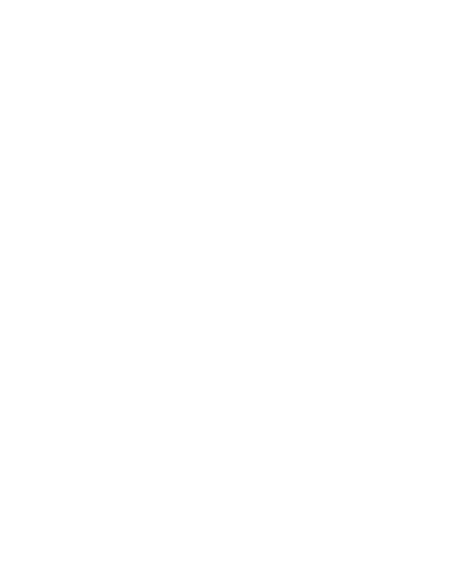
Удивительно построено это стихотворение. Сначала музыки нет, есть только рояль, предмет неодушевленный, что подчеркивается тем, что его «несут», «тащат», это громоздкий предмет, который плохо вписывается в тесное пространство «лестницы угольной» (черной), несут его два силача. И здесь возникает в тексте, сравнение, которое мгновенно расширяет пространство: несут, «как колокол на колокольню».
«Как колокол на башне вечевой…»,
и мгновенно эта реминисценция придает другое звучание вполне бытовому, заурядному событию. Обратим внимание на первую строку стихотворения: «Дом высился, как каланча».
Каланча в словаре у Даля – «вышка, сторожевая,
дозорная башня.
Каланчистое зданье – высокое, узкое, как башня».
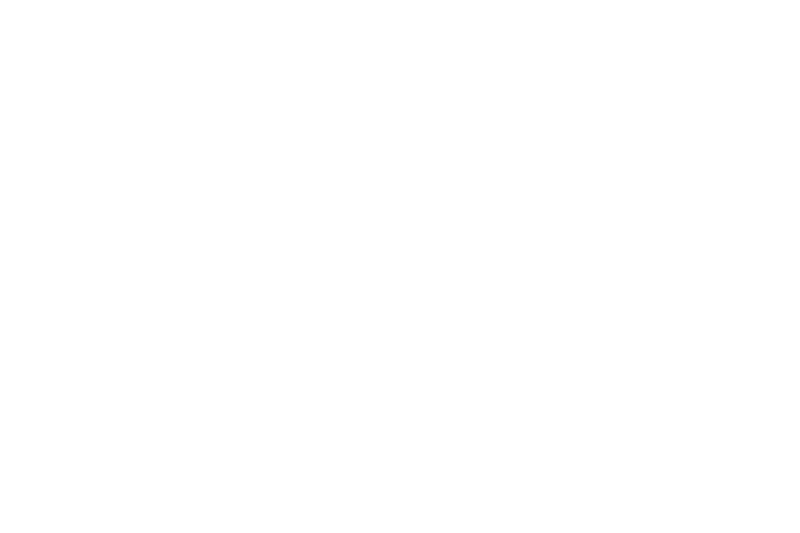
Рояль поднят наверх: «…и город в свисте, шуме, гаме,// Как под водой на дне легенд,// Внизу остался под ногами…». В следующей строфе появляется музыкант, назван он просто и буднично: «жилец с шестого этажа», но то, что он творец мы понимаем сразу: «На землю посмотрел с балкона,// Как бы ее в руках держа// И ею властвуя законно».
Под руками оживает рояль, это уже не неодушевленный предмет, потому что из его недр под пальцами Мастера вырываются «гуденье мессы», «шелест леса».
«Раскат импровизаций нес ночь, пламя, гром пожарных бочек, бульвар под ливнем, стук колес, жизнь улиц» ожидаемо или... неожиданно это перечисление заканчивается - в нем возникает тема разобщенности - «участи одиночек». В этой строфе появляется еще один любимый инструмент - орган, он не назван, но упоминание хорала, мессы пробуждает необходимые ассоциации.
Цепочка однородных членов начинается в одной строфе, а продолжается в следующей, используется поэтом для создания экспрессии. Синтаксису позднего Пастернака свойственны конструкции
перечисления однородных членов предложения.
«Раскат импровизаций» - сочетание непривычное -вызывает в памяти знакомое - раскат грома, дополняет ассоциативный ряд образами стихий, свободы. Эффект наращивания экспрессии, семантической многоплановости встречается не только при использовании в одном ряду разнородных предметов, явлений, абстрактных понятий (хорал, пожарные бочки, бульвар под ливнем, стук колес), но и при появлении анафоры, которая является одной из ведущих стилистических фигур поздней лирики Пастернака:
Или, опередивши мир на поколения четыре... Или консерваторский зал При адском грохоте и треске... |
В последних двух строфах создание образности идет на основе метафор:
«По крышам городских квартир //Грозой гремел полет валькирий»
До слез Чайковский потрясал //Судьбой Паоло и Франчески».
значимость образов:
«Бульвар под ливнем, стук колес,
// Жизнь улиц, участь одиночек».
Слова, объединенные звуковыми повторами,
сближаются семантически:
«Как с заповедями скрижаль // На каменное плоскогорье».
До слез ЧайковСКий потРЯсал
судьБой Паоло И ФраНчески
Случайное это совпадение или намеренная
зашифровка - решать читателю.
Глубинный смысл текста становится ясен в переплетении ассоциаций, рассуждений, догадок, в контексте других стихотворений Бориса Пастернака, о чем мы говорили выше. Каждое слово Пастернака наполнено смыслом, существует в сцеплении с другими, каждое заставляет выстроить ассоциативный ряд: рояль, орган, колокол, музыкант, творчество, город, суета, одиночество, небо, обыденное, божественное, адское, вечное... Явно от экспрессивности эпохи идет стремление Пастернака к «остранению», к борьбе с привычными ассоциациями.
«ассоциативный резонатор», поэтому вслед за Цветаевой можно сказать, что
«Пастернака читатель пишет сам».